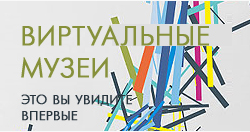«ПЕРМСКИЙ ПРОЕКТ» ГЛАЗАМИ СОЦИОЛОГА». Виктор Вахштайн
Фев - 2 - 2015«ПЕРМСКИЙ ПРОЕКТ» ГЛАЗАМИ СОЦИОЛОГА». Виктор Вахштайн
Гость "Пермского открытого университета" – Виктор Вахштайн, декан факультета социологии и политологии Московской высшей школы социальных и экономических наук, старший научный сотрудник Центра фундаментальной социологии ИГИТИ ГУ-ВШЭ, научный сотрудник Института социологии РАН прочитал лекцию «Социология и утопия». в Пермском государственном университете .
Интервью с гостем: "ПЕРМСКИЙ ПРОЕКТ" ГЛАЗАМИ СОЦИОЛОГА"
В Пермь известный социолог приезжает уже во второй раз. В прошлом году его лекции были посвящены двум оригинальным теориям: социологии игрушек и культуре повседневности. Нынешняя встреча обещает быть не менее интересной: по специальной просьбе философско-социологического факультета ПГУ Виктор Семенович расскажет о взаимосвязи социологии и утопии. В отличие от экономики и нескольких других родственных дисциплин в социологии слово «утопия» никогда не было оскорбительным.
– Виктор Семенович, насколько сложно говорить на профессиональную тему в рамках публичной лекции, формат которой предполагает, что среди публики могут оказаться самые разные, нередко далекие от науки люди?
– Моя аудитория – это узкая аудитория профессионалов, занимающихся, как правило, социальной теорией или исследованиями повседневности. Я всегда с трепетом читаю публичные лекции, потому что темы профессиональной науки, как правило, предельно далеки от интересов широкой общественности.
Сегодня мы видим попытку «выноса» узкопрофессиональных тем на широкую аудиторию. Но кроме всего прочего интересная работа по популяризации науки порождает и некоторые сомнения. Потому что это разные жанры: наука занимается своим делом, а публика интересуется совсем другим. Тем не менее, в истории разных наук были периоды, когда широкая общественность проявляла к ним самый пристальный интерес.
Например, на лекции философа Анри Бергсона во Франции собиралось огромное количество дам, которые просили своих компаньонок занимать места за полтора часа до начала встречи. (Об этом не устает напоминать в своих лекциях о «моде в науке» замечательный отечественный социолог А.Б. Гофман – на его лекции просвещенная публика занимает места за два часа). Или в России 90-х годов при полном аншлаге проходили экономические лекции – тогда самые разные люди воспринимали экономику как религию нового времени. Значит, если за публичным интересом стоит что-то еще, кроме усилий по раскрутке того или иного проекта, его можно рассматривать как примету времени. В ином случае получится просто эффективный культурный проект.
В то же время, популяризация может дорого обойтись самой науке: как случилось с психологией, которая получила огромный кредит доверия в XIX веке. Произошло это благодаря обещанию найти универсальные психологические законы, стоящие за любым процессом познания (тогда кафедры философии в Германии заменялись кафедрами психологии и даже логика и математика порой рассматривались как разновидности психологической науки). Однако уже в следующем столетии всеобщий интерес сменился довольно жестоким разочарованием в психологическом способе объяснения мира. К счастью для самой психологии – она вернулась в лаборатории и на кафедры, покинув широкую сцену – и к несчастью для социологии, сменившей ее под светом софитов.
– Сегодня специалисты не только выходят на широкую аудиторию, но и делают вместе совместные проекты. Например, вы – со-куратор ландшафтно-архитектурного фестиваля «АрхСтояние» этого года.
– Таков дух времени – узкие специалисты начинают образовывать неожиданно широкие альянсы. (Впрочем, не всегда неожиданные; мне доставляет огромное удовольствие работать с архитекторами.) Яркий пример – институт медиа, дизайна и архитектуры «Стрелка», созданный Ильей Ценципером и мировой знаменитостью среди архитекторов, профессором Гарварда Ремом Колхасом. Сегодня там вместе работают архитекторы, художники, дизайнеры, социологи, географы и т.д. – люди, от которых будет зависеть облик мира в XXI веке. Вообще архитекторы и социологии в чем-то пересекаются: архитекторы фактически создают мир, его не объясняя, задача социологии (если говорить о ней не как о ремесле) – в профессиональном создании языков для описания мира.
И то, что в одном ряду оказались искусство и социология (как в случае с «АрхСтоянием»), меня не пугает – во всяком случае, я гораздо больше опасаюсь взаимопроникновения науки и политических баталий, которые уже давным-давно размыли границу между социологией и политикой. В России это особенно заметно: пока во всем мире сражались социологи-структуралисты и социологи-феноменологи или, к примеру, микро- и макро- социологи, у нас линия фронта проходила между социологами-либералами и социологами-консерваторами. Вот это по-настоящему печально.
С другой стороны, определенные риски все же есть. И для тех социологов, которые «считают данные», и для тех, которые думают, что социология – это забота о благе народа. Риск в том, что социология (если ее рассматривать как практику создания языков) может потерять свой собственный язык. Чего, кстати, не происходит в странах с развитой социологической традицией, где социолог параллельно со своей основной деятельностью может спокойно организовывать выставки. У нас в России, сближение искусства и социологии воспринимается как предательство, измена своему цеху. Потому что в основном под социологией понимается набор рутинных ремесленных практик, с точки зрения которых социолог должен проводить опросы и фокус-группы или – в крайнем случае – преподавать. Но если относиться к социологии как к науке, создающей языки особого рода, то тогда взаимодействие c языком других наук – это единственно верное решение. Только так можно отрефлексировать, на каком языке говоришь ты сам.
– Не знаю насчет самих социологов, но пресловутая «широкая аудитория» в большей степени ассоциирует социологию со всяческими опросами, нежели с созданием особых языков.
– Половина социологов сами убеждены, что социология – это подсчеты. Собственно, что умеют, в том и убеждены. Однако это проблема не столько социологии, сколько вузовского образования. У нас обучение выстроено по принципу просвещения – дается некоторый набор навыков и знаний, а не создается профессиональное комьюнити. Такая модель сложилось исторически, и переход на Болонскую систему вряд ли что-то исправит. В результате задача любого хорошего бакалавриата в наших условиях – произвести когорту людей, недовольных своим образованием. После чего большая часть выйдет на рынок труда (где их полностью переучат), а небольшая когорта людей будет получать образование дальше. В этом смысле мои публичные лекции – тоже просвещенческие, а не профессиональные.
– Философско-социологический факультет ПГУ, на котором вы читали сегодня лекцию, достаточно молодой. И все-таки: можно ли уже говорить о каких-то отличиях пермской социологии, может быть, о пермской школе?
– Во-первых, в Перми я встречал много замечательных социологов, причем разных поколений, которые очень мирно уживаются между собой, что есть далеко не везде. То есть уже можно говорить об определенной традиции. Во-вторых – здесь замечательные студенты. Не может быть хороших студентов в плохом университете. И очень толковые молодые преподаватели, которые приезжают, в том числе, и на семинары в Москву, в наш университет. Пермь – не остров, она давным-давно включена в общую орбиту обмена интеллектуальными ресурсами.
Но институт настоящих научных школ в стране в принципе не развит. Российская система образования устроена таким образом, что человек начинает понимать, чем он хочет заниматься только к окончанию бакалавриата. А иногда еще позже. В этом нет ничего плохого, наоборот, как раз 21 год – это тот возраст, когда можно определиться – стоит тебе оставаться или лучше уехать, чтобы искать себе научный анклав для дальнейшего образования. Может ли такой анклав существовать за пределами Москвы и Петербурга? Я не могу ответить с уверенностью.
Здесь, конечно, встает вопрос об утечке мозгов – вопрос довольно болезненный для многих регионов, чьи лучшие интеллектуальные кадры уезжают в Москву (да и для России в целом, учитывая академическую миграцию). Но мое отношение к такой миграции сугубо позитивно. В конечном итоге, сегодняшняя российская социальная наука строилась теми, кто в 90-е уехал учиться к мировым звездам. А, вернувшись, начал создавать свои школы. Поэтому нужно думать не о том, уедут или не уедут завтра наши лучшие выпускники, а о том – куда они вернутся послезавтра.
– Во всей России, – и Пермь тут не исключение, – на «утечку мозгов» смотрят с совсем других позиций. Для многих даже звучит кощунственно – считать ее благом.
– Наш факультет «питается» региональными студентами: они в течение всего года обучения получают стипендию Сороса, а после – магистерский диплом Манчестерского университета. Около трети выпускников уезжают сразу же после окончания магистратуры в западные университеты и, я надеюсь, что их в будущем станет еще больше. Поощрение «утечки мозгов» – сознательная позиция.
В Перми сейчас удивительным образом удается многое поменять. Я приезжаю в ваш город третий раз – и каждый раз делаю для себя удивительные открытия. Я объездил тридцать регионов Российской Федерации с исследованиями и считал, что подобный культурный эксперимент – невозможен. Здесь – возможен. А значит, люди, которые раньше бы уехали из Перми просто потому, что здесь им душно сейчас, скорее всего, останутся. Но это совершено не значит, что должны оставаться люди, которые хотят заниматься наукой – им в первую очередь нужны научные школы, которые требуют сильной (несамобытной) традиции и потому их невозможно создать с нуля.
– То есть вы следите за пермскими культурными процессами?
– Конечно – такой эксперимент в масштабах целого региона… То, что произошло – уже хороший материал для исследования. Кстати, это напрямую связано с темой моего предыдущего приезда – социологией повседневности, и отчасти с нынешней темой – утопией.
– Каким образом?
– С точки зрения микросоциологии, смысл современного искусства – в дерутинизации восприятия. То есть в том, чтобы человек вынырнул из потока привычных, повторяющихся, не осмысливаемых практик. Это то, что Бертольд Брехт вслед за русскими формалистами называл «эффектом остранения» – когда знакомое превращается в незнакомое, рутинное – в непривычное. Это именно то, что искусство может сделать с городской средой – побуждать город к рефлексии и ответной реакции. Так что если пермский проект вызывает возмущение – это лучшее, что он может вызывать. Другое дело, что чистое отторжение искусства городским сообществом тоже не может быть результатом, так как вслед за ним ко всему происходящему горожане привыкают как к неизбежному злу, а значит, перестают замечать вообще. В России вообще очень велика традиция «оповседневнивания» даже самых шокирующих вещей. В этом смысле, после политических репрессий, техногенных катастроф и экономических кризисов художественная интервенция обречена – она не дотягивает до уровня экстраординарного шока.
Это очень богатая социологическая тема. Одна из тем теории фреймов – изучение того, как происходит рутинизация экстраординарного, в какой момент шокирующие события начинают считываться как повседневные, естественные, ожидаемые и прогнозируемые.
Почему Пермь интересна – это яркий предмет столкновения утопии и повседневности. Как показывает история, утопических проектов в этом столкновении у повседневности гораздо больше шансов на победу. Классическая утопия (в том числе утопия художественного действия) может быть успешной только для определенного момента.
– То есть фактически в современном искусстве должна быть заложена некая провокация, побуждение к ответному действию, иначе оно теряет свой смысл?
– Для того чтобы проект интенсификации культурной жизни реализовался, он должен проникнуть во все сферы городской повседневности. Культурные event-ы стремятся охватить весь город, вовлекая основную массу горожан. И когда произойдет окончательное размежевание между ежедневной жизнью и чередой новых культурных событий, можно будет говорить об окончании эксперимента. Иными словами, он закончится в тот момент, когда 90% горожан начнет ходить по зеленой линии, ее не замечая. А это фундаментальное свойство повседневной жизни – она рутинная, нерефлексивная, предельно вязкая и тягучая. Любой культурный проект, брошенный в повседневность, имеет свойство оставлять «круги» на ее поверхности и исчезать в недрах обыденной жизни без остатка. Культурные практики думают, что они для города что-то вроде миксера: вот-вот – и взболтают обычную жизнь – а жители идут себе на работу по зеленой линии мимо красных человечков. Крайне трудно взболтать патоку.
– Масштабный фестиваль «Белые ночи», который будет идти в Перми весь июнь – это тоже утопический проект?
– Разве что отчасти. Сразу на ум приходит Эдинбургский фестиваль. Почему бы не сделать Эдинбургский фестиваль в Перми? Является ли это утопическим проектом – вопрос замысла.
В социологическом смысле событие в культурной жизни должно учреждать какую-то новую общность. Ее отсутствие – худшее, что может случиться с фестивалем (пусть это и не помешает развлекаться огромному количеству людей на берегу реки). Но все-таки настоящее большое культурное событие должно производиться небольшим профессиональным сообществом, с целью создания большей социальной общности. Это такое событийное производство сообществ.
Если посредством фестиваля «Белые ночи» будет произведено какое-то новое сообщество, можно будет говорить о его успешности.
– Вы как гость города, успели что-то посмотреть?
– Я не горожанин, поэтому не могу избежать столкновения с культурной жизнью. Самое сильное потрясение, которое я здесь испытал –– это замечательный книжный магазин «Пиотровский», лучший магазин интеллектуальной литературы, из тех, что я видел в России. Притом, что остался в восторге и от простреленного БМВ на площади и Робокопа, собранного из карбюраторов. Но все же подобные арт-объекты, не редкость, в отличие от книжного магазина с таким ассортиментом. Так что, возможно, скоро из Москвы в Пермь нужно будет ехать за книгами.
Размещено в Пермский открытый университет